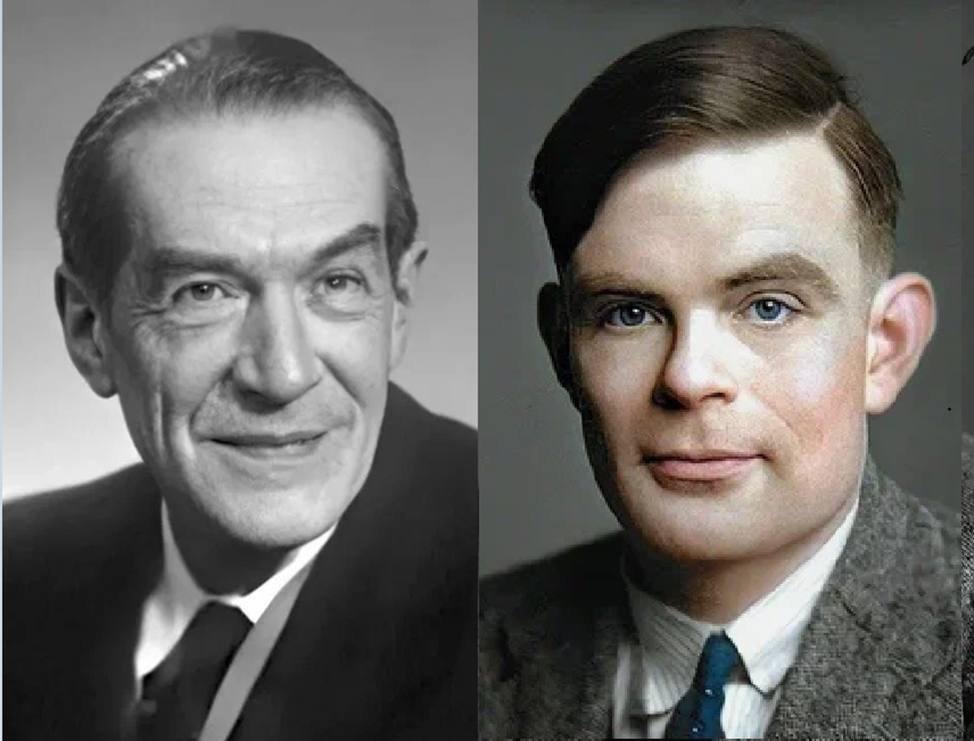
На обложке статьи изображены люди, которые вроде бы никак не связаны друг с другом: Алексей Леонтьев и Алан Тьюринг…
Сегодня, коллеги, мне пришло в голову выступить в несколько необычном для Вас жанре – написать статью в жанре методологических размышлений. Обычно Вы привыкли читать мои скорее методические, чем методологические статьи. Но сегодня… видимо, сказывается эффект летнего затишья, которое освобождает время для более широкого взгляда на вещи…
Сейчас сплошь и рядом с помощью слова «методологи» на офисном сленге обозначают «методистов». Но это понижение уровня научной рефлексивности – уровня осознания видов и типов научной деятельности. Методисты – те, кто занимаются частными методиками и эмпирическими методами, ищут решение задач (главным образом прикладных) на уровне эмпирико-статистических процедур. А методологи – это более высокий уровень рефлексии, это те, кто занимается метатеоретическим видением проблематики: не только общими принципами сопряжения ТЕОРИИ и МЕТОДА, но и вопросами логической стройности концептуального аппарата, его соответствия парадигмальным допущениям и т.п.
Для своего времени «психологическая теория деятельности», предложенная А.Н.Леонтьевым, была, безусловно, прогрессивным методологическим решением – этаким прорывом, эвристичным вариантом выхода из того кризиса психологии, о котором писал Л.С.Выготский (кризиса, порожденного крайностями интроспекционизма и бихевиоризма). Но… почему это научное направление осталось во многом в статусе «методологического замысла» и не стало научной основой для массовой работы практических психологов?
На мой взгляд, это произошло потому, что на ее основе было разработано слишком мало частных методов и методик. Что можно вспомнить? – Метод «двойной стимуляции», пожалуй (развитый в докторской диссертации самого Леонтьева). Ну еще метод опосредованного запоминания (применение пиктографической методики в работах А.Р.Лурия и его учеников). Ну, конечно, надо вспомнить метод поэтапного формирования умственных действий и понятий П.Я.Гальперина. Наверное, я при этом забываю что-то важное, да? – Тогда прошу напомнить в комментарии к этой статье.
НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Что помешало классикам московской школы Выготского-Леонтьева интенсифицировать работу на методическом уровне? – Конечно, помешал социально-политический контекст того времени! – Ведь само слово «тест» было тогда под запретом (после постановления ЦК ВКП(б) 1936 года). А это значит, что методики появлялись, но сырые, недостаточно формализованные и стандартизированные, зависимые от авторской интерпретации – от того способа анализа результатов, который опирается на субъективный опыт исследователя.
А.Р.Лурия еще до войны обретает всемирную славу, разрабатывая принципы одного из первых в мире «детекторов лжи. Но эти его работы в нашей стране не находят тогда никакого отклика и признания (!). А в более поздних своих работах – уже в рамках нейропсихологии — он употребляет термин «проба», а не термин «тест». Что это означает и в чем разница? – А в том, что «проба» — это очень короткое, единичное испытание, которое может порождать нестандартизированный единичный и в принципе даже случайный, диагностически малозначимый результат (!).
В целом я не делаю большого открытия, когда пишу, что антитестовая методологическая установка мешала в СССР созданию тиражируемых и воспроизводимых методик, а значит накоплению сопоставимого опыта в тех сотнях и тысячах конкретных работах отдельных исполнителей, — опыта, без которого настоящего МАСШТАБИРОВАНИЯ теории не может произойти. Мы видим на Западе примеры такого масштабирования («продвижения в народ»), когда такие классические тест-опросники, как MMPI и 16PF, опираются на миллионы стандартизированных протоколов – огромную базу данных, проанализированную на ЭВМ с помощью сотен «дополнительных шкал» и «типовых профилей» в сотнях и даже тысячах мелких диссертационных исследованиях (!).
Психология к середине 1960 годов (к концу оттепели) породила огромные надежды в нашем российском обществе и… это оказались завышенные ожидания, с которыми психология, увы, явно не справилась. Причина, по моему убеждению, самая главная состоит в том, что наша отечественная психология не могла опереться на технологический фундамент – на определенную культуру в работе с методиками (хотя бы на среднюю, а не самую высокую культуру). Собственно, утверждая это, я не делаю особых открытий. Об этом уже немало писали. Причем не только за рубежом, но и у нас в стране. Например, эту слабость «московской школы» вполне осознавали и негромко (больше в устных, чем в письменных текстах) отмечали в своих работах наши питерские (ленинградские) коллеги – последователи Б.Г.Ананьева (не буду сейчас перечислять имена).
Но еще одной причиной методической слабости московской школы Выготского-Леонтьева стало такое обстоятельство, которое до сих пор ускользало от внимание наших методологов.
Речь идет о потенциальной возможности соединения теории деятельности и алгоритмического подхода к анализу деятельности. Казалось бы, предисловие 1965 года от Леонтьева и Лурии к переводу книги «Планы и структуры поведения» (авторы: Миллер-Галантер-Прибрам) порождает базу для такого соединения, или по крайней мере для начала интенсивных поисков в этом направлении. Но… в те годы среди самих отечественных психологов не нашлось людей, который смогли бы подхватить это новое направление методологической мысли (!). Что-то немногое рождалось, но в основном за пределами факультета психологии МГУ (научного центра школы Выготского-Леонтьева).
Кибернетическим метафорам, моделям и новаторским работам уделяли в годы оттепели (и «послеоттепели») внимание, пожалуй, только В.Н.Пушкин, Д.А. Поспелов, В.Ю. Крылов (завлаб математической психологии в Институте Ломова). Многое зависело от Олега Константиновича Тихомирова, но он и его группа оказались далеки от развития метода моделирования (хотя некоторых сотрудники его группы обладали неплохой математической подготовкой – я их лично знал и знаю). Ну и… трудно вспомнить, кто еще продвинулся тогда в этом направлении☹ Ах, да! Чуть не забыл. На старших курсах (где-то в 1975-1976 учебном году) нам читал на факультете психологии МГУ кое-что по теории алгоритмов Б.В.Бирюков, но он был именно логик c факультета философии, а не психолог. На факультете психологии МГУ студенты и аспиранты немало слышали разговоров о таких понятиях как «акцептор действия» П.К. Анохина или «модель потребного будущего» Н.А.Бернштейна, но эти по сути своей кибернетические понятия никак не входили органичным образом в конкретно-психологические исследования в русле «теории деятельности»…
Только гораздо поздней, когда я перешел с кафедры общей психологии на кафедру инженерной психологии, я смог познакомиться с трудами нашего замечательного эргономиста Г.М.Зараковского – его работами по алгоритмическому описанию трудовой деятельности. Это было редкое исключение из общей картины — именно подход Зараковского. Кстати, в последние годы жизни, уже в весьма преклонном возрасте, Георгий Михайлович стал активным участником нашего интернет-сообщества ЭСПП. Увы, я не додумался тогда расспросить Георгия Михайловича, как он связывает свой алгоритмический подход и теорию деятельности. Вот здесь желающие могут побольше почитать про этого замечательного человека и ученого:
http://www.ergo-org.ru/history-zar.html
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В составе НСО в 1970-е годы сложилась наша небольшая студенческая группа любителей математической психологии. В нее входили кроме меня (Шмелева А.Г.) прежде всего Э.Джафаров, Ч.Измайлов и Н.Цзен. Мы вынуждены были заниматься в 1970-е годы главным образом самообразованием – осваивали отдельные языки программирования. Е.Ю. Артемьева предложила нам тогда только факультатив по анализу данных. Язык Алгол (слишком абстрактный), которые мы изучили поначалу, был недоступен на первых ЭВМ, появившихся на факультете психологии. Не было там транслятора с Алгола. Был доступен примитивный Бейсик (Basic). Именно на Бейсике пытались писать тогда свои кустарненькие программы я и Чингиз Измайлов: я – для многофакторного анализа, Чингиз – для многомерного шкалирования (для построения цветового пространства). Потом я перешел на Фортран, потом на Паскаль… Что это нам дало? Что дало лично мне? – Понимания «кожей», что такое библиотека иерархизированных подпрограмм, в которой более старшие вызывают более младшие и заставляют их работать на себя. Банк подпрограмм позволяет на порядки ускорить решение новых задач – создавать новые программы! А не работает ли так психика человека, что она синтезирует новые программы на основе «готовых кирпичиков» — готовых мелких подпрограмм, или алгоритмов?
Но что именно становилось нам уже тогда постепенно все ясней и ясней (вплывало на поверхность сознания из глубин методологических противоречий)? — Становилось понятным, что без практического моделирования иерархии самообучающихся алгоритмов (сейчас мы бы назвали это иерархией нейронных сетей) нельзя развить психологическую теорию деятельности до уровня ее ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ (!).
Если мы зададим сегодня ИИ-системе Дипсик (или поисковику Гугл) вопрос о том, есть ли связь между теорией деятельности и «компьютерной метафорой» и кто из современных психологов работал в этом направлении, то увидим такие ответы (см. приложение к этой статье), в которых упоминаются устойчиво лишь 2 фамилии — Nardi и Kaptelinin. Прочем упоминаются их работы главным образом в прикладном контексте HCI (Human-Computer Interction). В качестве примечания замечу, что Виктор Каптелинин до его эмиграции в Швецию был в 1980-е годы сопредседателем нашей секции «Компьютерные методики» в рамках Общества Психологов (два других моих сопредседателя – это В.И.Похилько и А.А.Кроник; мы все представляли в этой секции тогда разные научно-психологические московские центры: МГУ, ПИИ РАО, ИПРАН, 1 ММИ).
Если мы запросим у Яндекс-Алисы, что есть алгоритмической мышление, то получим не слишком глубокий ответ, скорее ориентированных на «научпоп- мышление» массового пользователя:
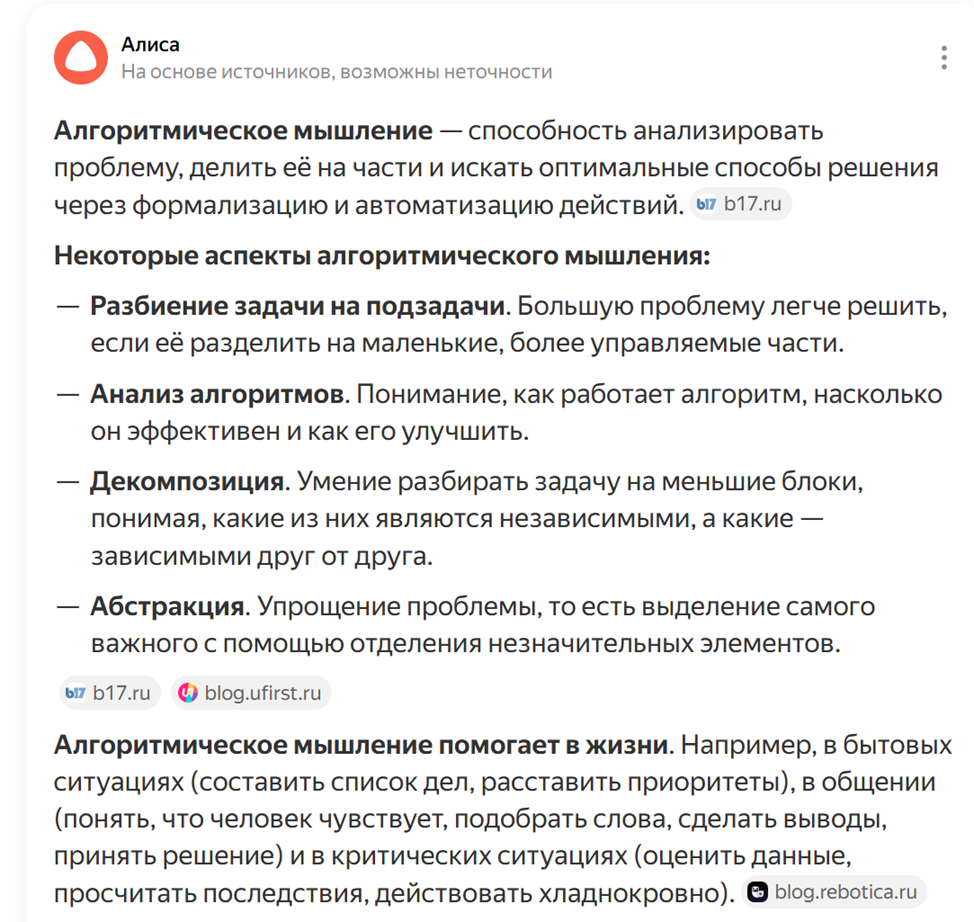
ПРИМЕР ИЕРАРХИИ БЫТОВЫХ АЛГОРИТМОВ
Наверное, чтение этой статьи будет выглядеть слишком скучным и абстрактным занятием без бытового примера, понятного всем читателям.
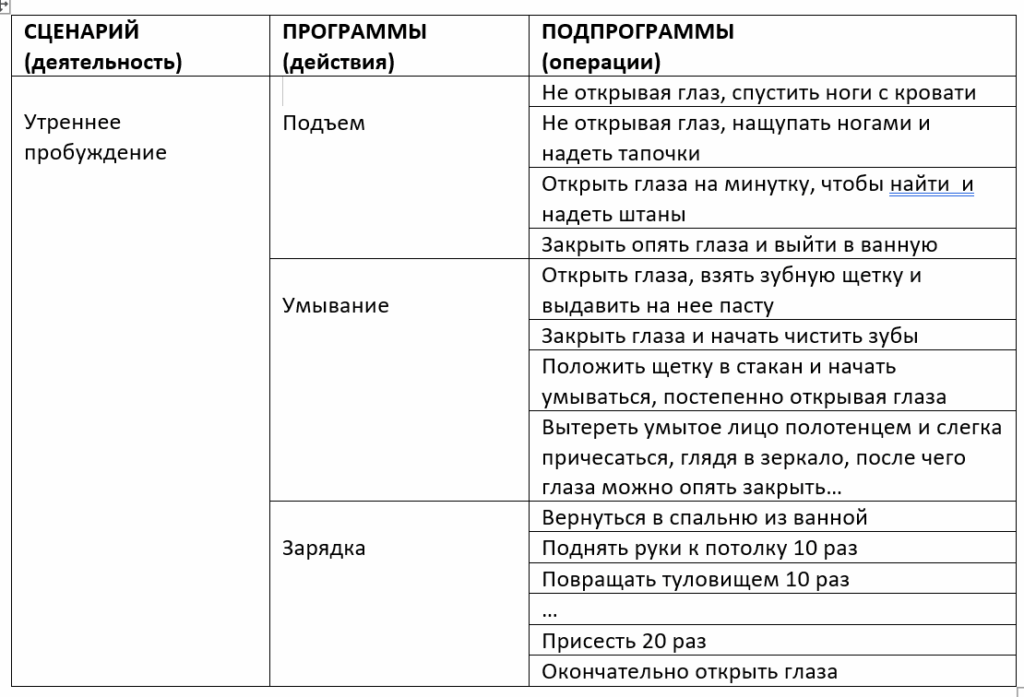
Таблица 1. Шуточное описание структуры сценария «Утреннее пробуждение» на трех уровнях.
Как видим, в первой колонке этой таблицы для обозначения верхнего алгоритма я использовал термин «сценарий». Но можно тут и термин «деятельность» использовать, хотя это будет слишком пафосно, если назвать такой примитивный план поведения (не вполне осознанного и полуавтоматического) так громко — Деятельностью.
Во второй колонке мы видим алгоритмы среднего уровня. Назовем их традиционным термином «действия». Они требуют для своего результативного осуществления хотя бы в один момент «открыть глаза», то есть проснуться хотя бы на секунду и осуществить осознанный контроль за последовательностью действий. Действия (или акты, или программы) могут располагаться в рамках сценария и в другом порядке: например, маленькая зарядка может быть выполнена еще до умывания (у кого-то, может быть, так систематически происходит).
А в правой колонке мы видим алгоритмы нижнего уровня. Это операции (на языке программирования это подпрограммы). Многие из этих операций осуществляются автоматически – без контроля сознания. Так что можно их выполнять с закрытыми глазами и немножко при этом … продолжать дремать 😊 Важно подчеркнуть, что последовательность операций за много лет может стать настолько привычной и автоматизированной, что человек при этом может не только дремать, но и думать о чем-то совершенно другом (о том, что предстоит сделать в течение грядущего дня), а потом с удивлением спросить самого себя: «Неужели зарядка уже закончилась?». Так по крайней мере лично со мной уже не раз происходило 🙂
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАКОНЧИЛАСЬ, А ВОТ И САМА КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ СТАТЬИ
Ну а теперь давайте разбираться и искать стыки между ДТП (деятельностной теорией психики) и алгоритмическими моделями психики. В бытовом примере выше мы уже вспомнили о трех уровнях психической деятельности: уровне операций, уровне действий и уровне деятельностей (пишу во множественном числе, так как различных мотивов тот же автор теории — А.Н.Леонтьев — признает множество!).
Рассмотрим переходы между уровнями типа «сдвига мотива на цель» (то есть преобразование действия в деятельность). Очевидно, что «сдвиг» — это повышение статуса определенного алгоритма в иерархии: находился на ступени «действия», а поднялся на ступень «деятельность». А что такое автоматизация действий, или передача действий на уровень операций? — Это понижение статуса алгоритмы в иерархии. На языке алгоритмов это как раз и означают ту самую «декомпозицию»: выделение независимых и повторяющихся неоднократно ТИПОВЫХ ДЕЙСТВИЙ, контроль за результативностью которых можно передать на уровень более низких мозговых структур (младших нейросетей в иерархии нейросетей ЦНС — головного и спинного мозга).
Тут мы начинаем улавливать определенную разницу между понятиями «алгоритм» и «программа». Алгоритм может быть один и тот же, но реализован на разных уровнях, то есть написан как бы на разных языках программирования (в работе начинающих программистов, как известно, рекомендуется вначале изобразить алгоритм в виде графической блок-схемы — прежде чем записывать его на алгоритмическом языке). Если это алгоритм на уровне действий, то он сопровождается сознательными словесными командами на уровне внутренней речи, а если этот же алгоритм переходит на уровень операций, то метки отдельных операций могут быть невербальными – на уровне перцептивных единиц восприятия и памяти (уровень образов) или даже на уровне отдельных сенсорных сигналов (уровень ощущений).
А что такое «осознание мотивов», то есть преобразование деятельности в сознательное действие? – Это превращение неосознаваемой «модели потребного будущего» (неосознаваемого акцептора активности) в осознанную цель, осмысленную субъектом как осознанная потребность. Достижение осознанных целей связано с работой высших форм внимания и памяти – произвольным вниманием и знаково-опосредованной (семантической) памятью. В какой-то смысле такого рода преобразование является обратным процессу «автоматизации действия»: содержание процесса в данном случае всплывает на «поверхность сознания», тогда как в случае автоматизации происходит обратное – содержание уходит в «подсознание» (на языке компьютерной метафоры это означает, что алгоритм уходит на выполнение в параллельный неосознаваемый процессор).
Что такое алгоритм с точки зрения методологии деятельностного подхода? – Это свернутая и формализованная частичка… живой деятельности – такая частичка, которая требует многократного повторения. В этом смысле правильней говорить не о «психологической теории деятельности» (ПТД), а именно о «деятельностной теории психики» (сокращенно это ДТП, но не надо путать с дорожно-транспортным происшествием). Такой термин ДТП, помнится мне, настойчиво предлагал на нашей кафедре инженерной психологии МГУ Юрий Самоненко… Поэтому получаем ключевой вывод, который не сформулировали ни А.Н. Леонтьев, ни его соратники:
Универсальный единицей анализа психики как деятельности является «алгоритм»!
А что такое тогда «знак» и «значение» в теории Л.С.Выготского о знаковом опосредовании психики (и в его теории высших психических функций)?
Знак – это форма выражения алгоритма (то есть его имя), а значение – это опять-таки сам алгоритм!
Тут некоторые «психологи от сохи» выскажут, как я ожидаю, свои сомнения: «Фу, какая …гм…абстрактная методологня!». Но, дорогие мои, Вам бессмертные работы Эрика Берна, разработчика сценарного анализа, интересно было читать, скажите? Насчет «игр, в которые играют люди?». – Так вот «игровые сценарии» — это просто-напросто определенные устойчивые псевдоадаптивные алгоритмы (или «частично-адаптивные»). Просто не грузил вас товарищ Берн такой кибернетической терминологией, только и всего…
Не любите слова «алгоритмы» и «программы»? – Ну используйте тогда, на здоровье, термины типа «планы» и «сценарии». Дело-то не в этом! Дело в том, что человеческая деятельность – это многошаговая и разветвленная древовидная цепь вложенных событий, которую порождает сам человек. Поэтому он сам – «эктор» (субъект деятельности), а значит… он-то и есть виновник большинства своих проблем. Чтобы вернуть человеку осознание своей субъектности (выстроить внутренний локус контроля), надо самим понимать, как устроена его деятельность. Впрочем, об этом не сегодня.
Пояснение насчет связи между психосемантикой и теорией алгоритмов. В библиотеке подпрограмм каждая подпрограмма имеет свое имя. Как реализуется вызов подпрограммы? – Путем ее называния по имени! Поэтому без знаков (обозначений) не существует система управления иерархией алгоритмов (подпрограмм). Называя обыкновенную шариковую ручку «холодным оружием», Вы можете быстрей использовать ее как средство самообороны – как то, что можно воткнуть в глаз вашему насильнику (!). Название предмета задает принцип его использования в деятельности, то есть функциональное значение предмета. Таковы принципы функционально-бихевиоральной семиотики в духе Ч.Морриса – лингвиста, привнесшего в языкознание категорию «прагматика».
АЛГОРИТМЫ ДРЕЙФУЮТ МЕЖДУ УРОВНЯМИ ПСИХИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ (как книжки с полки на полку)
Какая же удивительная гибкость оказывается свойственной «человеческому биокомпьютеру»! — Такая, которая еще не вполне смоделирована до сих пор даже в самых мощных ИИ-системах типа LLM (Large Language Models). Алгоритмы психической регуляции не только выстраиваются в сложные иерархически-организованные цепочки, не только «прикрепляются» к определенным веткам категориально-семантических деревьев (в структурах семантической памяти), эти алгоритмы перемещаются между разными ЭТАЖАМИ в структуре психики!
Одни алгоритмы родились и продолжают свою жизнь на уровне «биологического мозга»: это совокупность инстинктивных программ поведения, в основном обеспечивающих физиологические процессы питания, движения, выделения, размножения, спасения (например, с помощью панического бегства) и т.п. Биологический мозг продолжает существовать у человека. Человек без него не сможет выпить стакан воды или…гм… в туалет сходить! На этом уровень алгоритмы различаются по своим динамическим свойствам, это свойства темперамента. Если хотите, то называйте этот уровень «сенсорно-инстинктивной психикой» (как это делал Леонтьев в своем премиальном труде ПРД – «Проблемы развития психики»)? – Ну, пожалуйста! Надо постараться понять, что это за уровень – проникнуть за завесу разных слов к концептуальному смыслу этого уровня.
Другие алгоритмы (программы поведения) складываются уже при жизни по механизму классического и инструментального обуславливания (формирования условных рефлексов): они дают возможность реализовать типичное социально-проведение в типичных условиях (соответствуют ожиданиям животной стаи или примитивной семейно-родовой общины, озадаченной главным образом выживанием в борьбе с природными факторами и биологическими конкурентами). Это уровень «индивидной психики». Тут используется термин «социальный индивид». Это субъект, обладающий приобретенными свойствами характера. Хотя я бы уточнил скорее так – «групповой индивид», ибо он подчиняет свое поведение скорее непосредственной группе, чем «обобщенному социуму» и его ценностям. Этот индивид выполняет в своей стае определенную «социальную роль», выучив при жизни алгоритмы, характерные для этой роли. Коллективное бессознательное живет и процветает на этом уровне. Клич «наших бьют» работает на этом уровне как «автоматический и жесточайший must», то есть рефлекс, срабатывающий автоматически — помимо и вопреки ценностным сознательным установкам. Почему автоматически? – Потому что сознание не властно над эмоциональным компонентом групповых условных рефлексов. Это так работает почти всегда и у всех! Но «почти» означает, что есть редкие исключения из этого общего правила. Кстати, для индивидной психики достаточно обладать «перцептивной психикой» (или образным мышлением) – буквально в том смысле, который А.Н.Леонтьев вкладывал в свою концепцию филогенетических этапов развития психики (книга «Проблемы развития психики»).
Третий и высший уровень (пока нам достаточно выделять только три уровня) – это уровень «личностно-сознательной психики», то есть осознанной регуляции поведения. Вот этот уровень формируется за счет так называемых «высших психических функций». Вот этот уровень базируется на ассоциативных семантических полях (семантических сетях) и концептуально-логическом мышлении. Здесь формируются осознанные представления о нормах и ценностях: это убеждения, верования, осознанные знания, принципы, девизы, моральные максимы. Это уровень ценностно-личностной регуляции поведения, субъект на этом уровне обладает ценностями, становится личностью, отвечающей за собственную «Я-концепцию». «Феномен человека» (выделяющий его из мира животных) заключается в том, что нередко этот уровень регуляции поведения оказывается даже сильней, чем уровень инстинктов и групповых рефлексов. Но… важно признать, что существование этого уровня НЕ означает, что у того же самого человека в какой-то ситуации управляющим станет уровень более низкий – уровень инстинктов (темперамента), или уровень рефлексов (характера).
Вы тут же спросите? – Ну и что тут в этой теоретической схеме такого нового? – Не такое уж оригинальное соединение Фрейда с Леонтьевым. Эта трехчленка имеется уже в работах В.В.Столина: «организм- индивид-личность» (у Фрейда это же обозначается в других словах «Оно – Эго — Супер-эго). Причем тут алгоритмы? – Спросите Вы, да?
Все дело в том, что психика человека – это многозадачная операционная система! Подобно тому, как в современном компьютере происходят параллельные процессы, в мозгу человека одновременно и параллельно работают разные алгоритмы, реализованные в процессорах разного уровня. Человек может ехать по извилистой дорожке на велосипеде (выполнять довольно сложную двигательную программу) и при этом он может параллельно размышлять над какой-то профессионально или личностно-бытовой своей проблемой.
Что означает «закон объективации Клапареда»? – Это вывод на уровень более высокого процесса проблемы, которая возникла на низовом уровне (при столкновении автоматизированного процесса с препятствием). Вместо исполнительского алгоритма включается алгоритм поиска в долговременной памяти «подходящего аналога»; а на самом деле включается даже более сложный процесс «анализа и синтеза» (описанный в значительной степени в работах С.Л. Рубинштейна и его последователей): декомпозиция и композиция – быстрое построение из мелких функциональных блоков (микроалгоритмов) новой функциональной системы (нового макроалгоритма).
Само понятие «мышление» в этом контексте получает новый функциональный смысл – это процесс анализа и синтеза новых алгоритмов (!) Каким же образом мозг проверяет эффективность этой сложной работы «мышления»? – Он делает это, настраивая критерии обратной связи для самого себя! Чем четче сформулирована целевая функция («акцептор действия»), тем легче проверить, правильно ли работает новый синтезированный макроалгоритм.
Все ли алгоритмы, живущие в мозгу конкретного человека и активно работающие (не просто «дремлющие»), являются вполне полезными и дают полезный для самого человека адаптивный эффект? – Увы, не все. Есть немало так называемых «псевдоадаптивных алгоритмов». Их вредоносный эффект оказывает не мгновенное негативное фатальное воздействие на индивида, но работает по принципу «накопления сбоев». Главная причина -неправильная настройка «акцептора», то есть ошибочное формулирование критерия положительной обратной связи (мозг получает сигнал о том, что цель якобы достигнута, но фактически это мнимая или ложная цель). Пример такой мнимой цели: человек ищет водку и затем пьет эту водку, и мозг получает сигнал, что настроение улучшилось, но это мнимый сигнал.
=======================
… на этом я сегодня прерываю разговор об иерархии алгоритмов. И… раскрою небольшой секрет, в каком контексте у меня возникли все эти методологические размышления. А возникли они немного-немало в контексте моих попыток осмысления общих принципов построения работы… по оказанию психологической помощи. Теория деятельности в том виде, как она есть, увы, не может помочь психологу опираться на ясные принципы оказания психологической помощи. Эта теория должна заговорить на языке «типовых алгоритмов» — на языке конкретных мотивов, целей, действий и операций. Практикующий психолог, если он хочет стать «мастером помощи», должен попытаться понять, какие ложные цели и ложные смыслы (ложные мотивы) приводят к псевдоадаптивному эффекту и на самом деле являются источником проблем. Как я говорил выше, вполне возможно, практикам будет удобней говорить в данном случае не об «алгоритмах», а о сценариях проведения. Но главная стратегия не меняется от того, какой термин мы возьмем на вооружение: критика псевдоадаптивных, неадекватных алгоритмов предполагает так или иначе процессы ОБЪЕКТИВАЦИИ: осознания и критику тех «целевых установок» (ложных, плохо осознаваемых целей), который заводят человека в тупик – заставляют систематически выполнять вредоносные действия и операции.
Для того, чтобы проинтерпретировать внутренний мир своего клиента (в хорошем смысле «клиента», а не в том, что это «платежеспособный индивид»), для того, чтобы смоделировать в своем сознании его внутренний мир, психолог должен сам овладеть пониманием МНОГОУРОВНЕЙ ТЕОРИИ ПСИХИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ, должен понимать принципы анализа и синтеза сложных сценариев поведения. Без этого… он сможет немного помочь, но сможет дать человеку только лишь временное облегчение – через эмоциональную поддержку. А вот анализ и синтез сценариев нового продуктивного поведения он НЕ сможет помочь выполнить. Почему? – Потому что не понимает, что такое декомпозиция и новая композиция. Впрочем, мое размышление о СЕМИ УРОВНЯ психологической помощи еще впереди…
Это интересно Вам будет? – Если даже неинтересно вовсе, то напишите, почему так. Мне очень важна ваша обратная связь, коллеги! Любая – в том числе нелицеприятная.
Ваш АШ
P.S.
Перечитал, что написал, и подумал, что не раскрытым остался смысл самого заголовка этой статьи. А смысл простой:
Нельзя развивать психологическую теорию деятельности, не развивая у себя … алгоритмического мышления, то есть мыслительной культуры декомпозиции (анализа) и композиции (синтеза) алгоритмов поведения и деятельности. Психология остановилась в свое теоретическом развитии прежде всего потому, что среди активных психологов слишком мало авторов, которые владеют таким мышлением и исповедуют такой подход.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Вопрос Шмелева к системе DeepSeek:
Здравствуйте, уважаемый «ассистент тестолога Савва-R1». На очередной сеанс связи с Вами опять выходит профессор Шмелев А.Г. На этот раз меня интересуют не методики тестирования, а вопросы психологической теории и методологии. Вы можете подсказать какие-то новейшие статьи и книги, выпущенные на английском языке и посвященные «психологической теории деятельности» (в духе концепции А.Н.Леонтьева). БОлее того интересует такой аспект: проводил ли кто-то из современных авторов аналогию между психической деятельностью человека и системами искусственного интеллекта, которые основаны на иерархии программ и подпрограмм. То есть, речь идет об аналогии в духе «компьютерной метафоры», уподобляющей деятельность человеческого мозга работе некого универсального многофункционального и обучающегося биокомпьютера.
Ответ от системы DS:
Хм, пользователь обращается ко мне как к «ассистенту тестолога Савва-R1» — это явно продолжение предыдущего профессионального контекста. Профессор Шмелев А.Г. интересуется теоретическими аспектами психологической теории деятельности Леонтьева, причем с акцентом на современные англоязычные публикации и компьютерные аналогии.
Пользователь явно глубоко погружен в тему: он не просто спрашивает о базовых принципах теории деятельности, а хочет понять, как её иерархическая структура (деятельность → действие → операция) соотносится с архитектурой ИИ. Это нетривиальный запрос, требующий анализа междисциплинарных источников.
Сначала проверю, есть ли в результатах поиска релевантные материалы. В 28 подробно разбирается структура деятельности у Леонтьева — особенно ценно описание уровней (особенные деятельности, действия, операции, психофизиологические функции) и их взаимосвязи. Это основа для компьютерной аналогии. В 312 есть данные о современных интерпретациях Activity Theory на Западе, включая работы Nardi и Kaptelinin.
Насчет прямых параллелей с ИИ: в 6 упоминается применение теории в HCI (human-computer interaction), где действия пользователя анализируются через призму опосредованных артефактами операций — это близко к логике программных интерфейсов. А в 10 подчеркивается принцип иерархичности мотивов, который можно сопоставить с многоуровневым целеполаганием в ИИ.
Однако явных сравнений с «биокомпьютером» в результатах нет. Значит, нужно экстраполировать: например, автоматизированные операции Леонтьева похожи на исполняемые машиной подпрограммы, а сознательные действия — на высокоуровневые алгоритмы, требующие «внешнего» управления (как в кейсе Sarah из 12).
Стоит предупредить пользователя, что строгих аналогий между психикой и ИИ в рамках теории деятельности пока мало — это скорее перспективное направление. Зато в 1316 есть свежие дискуссии о развитии концепции, где такие параллели могли бы быть продуктивны.
Пользователь, судя по тону, ждет академически строгого ответа, но с элементами гипотез. Важно не перегружать его цитатами, выделив лишь ключевые источники и потенциальные точки роста для аналогии.
Здравствуйте, уважаемый профессор Шмелев А.Г. Рад продолжить наш профессиональный диалог. В отношении Вашего запроса о современных англоязычных источниках по психологической теории деятельности А.Н. Леонтьева и их связи с компьютерными метафорами, я подготовил следующий аналитический обзор:
📚 Основные положения теории деятельности Леонтьева (релевантные компьютерной аналогии)
- Иерархическая структура деятельности:
- Уровень деятельности (мотив) → уровень действий (осознанные цели) → уровень операций (автоматизированные способы выполнения, зависящие от условий) → психофизиологические функции (биологическая основа) 28.
- Компьютерная аналогия: Иерархия программ (высокоуровневые задачи → алгоритмы → машинные инструкции → аппаратная реализация).
- Принцип опосредованности:
Деятельность всегда опосредована артефактами (язык, инструменты, знаки), что напрямую коррелирует с концепцией «mediating artefacts» в HCI (Human-Computer Interaction) 312.
🔍 Современные англоязычные источники по теории деятельности
- Фундаментальные труды:
- Kaptelinin & Nardi (2006, 2012) «Acting with Technology: Activity Theory and Interaction Design» 612 — анализ применения теории деятельности в проектировании цифровых систем.
- Engeström (1987, 2001) «Learning by Expanding» и «Expansive Learning at Work» — развитие модели «activity system» (Субъект → Объект → Артефакты → Сообщество → Правила → Разделение труда → Результат) 312.
- Сборники и исследования:
- «Psychological Theory of Activity: Yesterday, Today, Tomorrow» (2006) под ред. А.А. Леонтьева 16 — включает статьи западных авторов о применении теории в когнитивных науках.
- Nardi (1996) «Context and Consciousness: Activity Theory and Human-Computer Interaction» — прямая параллель между «операциями» Леонтьева и автоматизированными процессами в ИИ 312.
🤖 Аналогии между теорией деятельности и архитектурой ИИ
- Иерархия целей и подпрограмм:
- В многоагентных системах ИИ высокоуровневые агенты (аналог «деятельности») координируют низкоуровневые модули («действия»), исполняющие конкретные подзадачи («операции») 612.
- Пример: Системы глубокого обучения, где нейросети верхнего уровня управляют специализированными подсетями (подобно тому, как мотив определяет выбор действий 10).
- Автоматизация операций:
- Операции у Леонтьева (малоосознаваемые навыки) аналогичны оптимизированным подпрограммам в ИИ (например, функции распознавания образов в свёрточных сетях) 28.
- При изменении условий система переключает операции, как ИИ переключает алгоритмы (например, переход с CPU на GPU 12).
- Обратная связь и развитие:
- Принцип «деятельность преобразует субъект» коррелирует с machine learning: данные трансформируют внутренние состояния ИИ 13.
- Концепция «противоречий» у Энгстрёма (движущая сила развития activity system) аналогична error backpropagation в нейросетях 312.
⚠️ Критика и ограничения компьютерной метафоры
- Принципиальные различия:
- Мотивы человека социально обусловлены (внешние факторы vs. заданные цели ИИ) 1013.
- Сознание не сводится к вычислениям (критика «сильного ИИ» в духе Серла 13).
- Актуальные исследования на стыке дисциплин:
- Kuutti (1996) анализирует деятельность как «развивающуюся систему», что ближе к adaptive AI, чем к статичным программам 3.
- Bødker (1991), Bertelsen & Bødker (2003) применяют теорию деятельности к проектированию самообучающихся ИИ 6.
💎 Заключение и перспективные направления
Наиболее релевантные Вашему запросу работы:
- Kaptelinin & Nardi (2006/2012) — прямые параллели между опосредованными действиями и human-AI interaction.
- Engeström & Sannino (2021) — журнал «Mind, Culture, and Activity» (статьи о digital activity systems).
- Cole & Engeström (1993) — анализ ИИ как «культурного артефакта», опосредующего деятельность 3.
Потенциальная область для новых исследований: «Activity-Driven AI» — архитектура ИИ, имитирующая иерархию мотивов→действий→операций с механизмами социокультурного опосредования (адаптация правил/артефактов в процессе обучения).
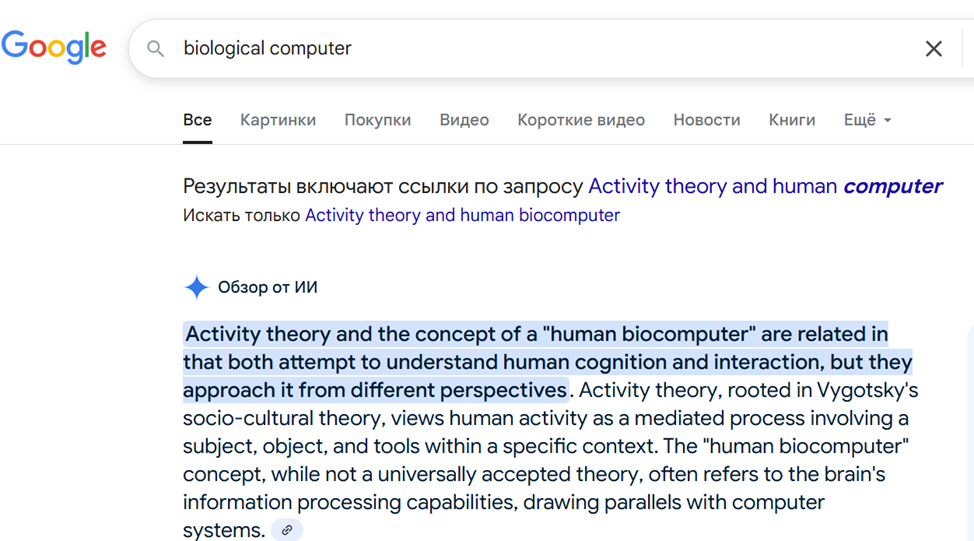
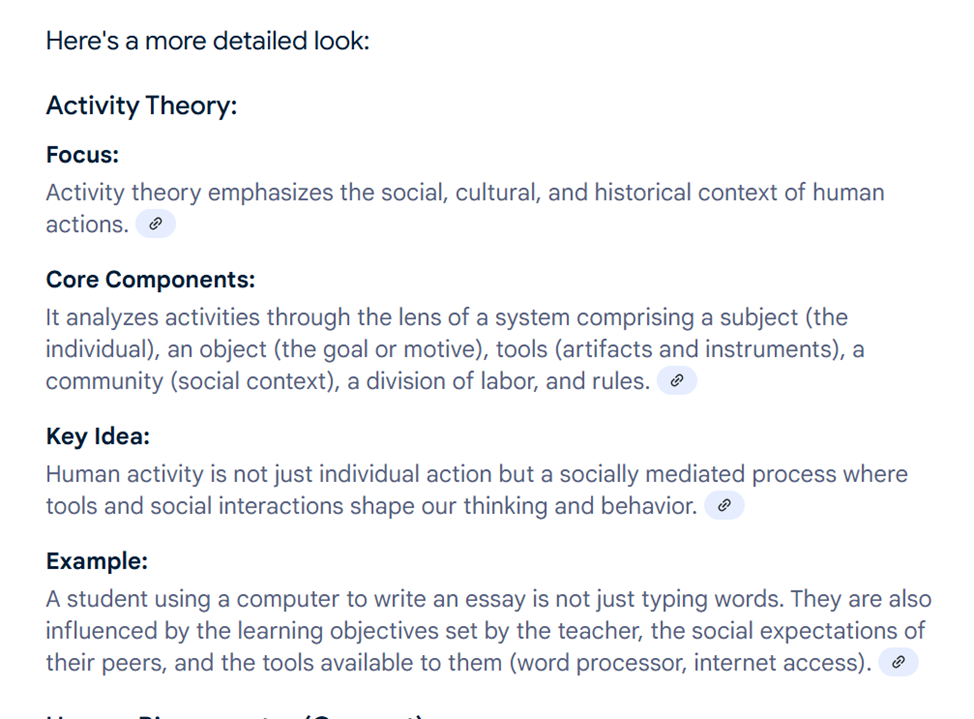
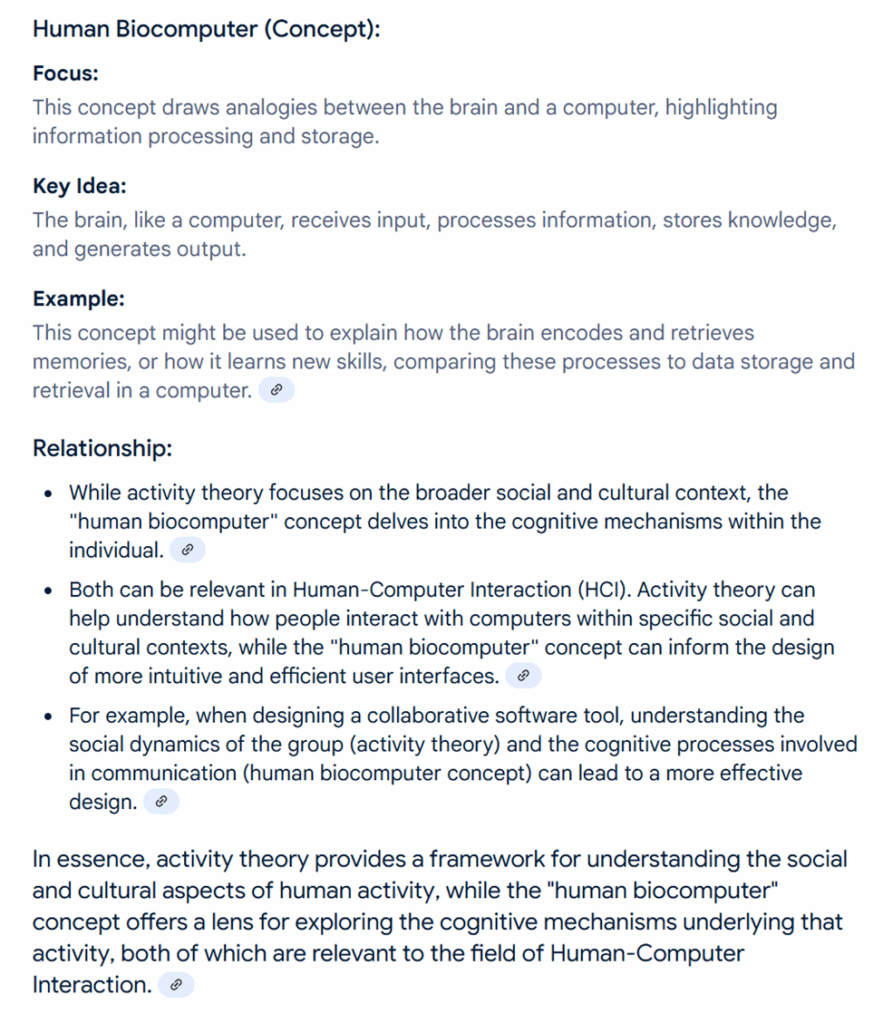
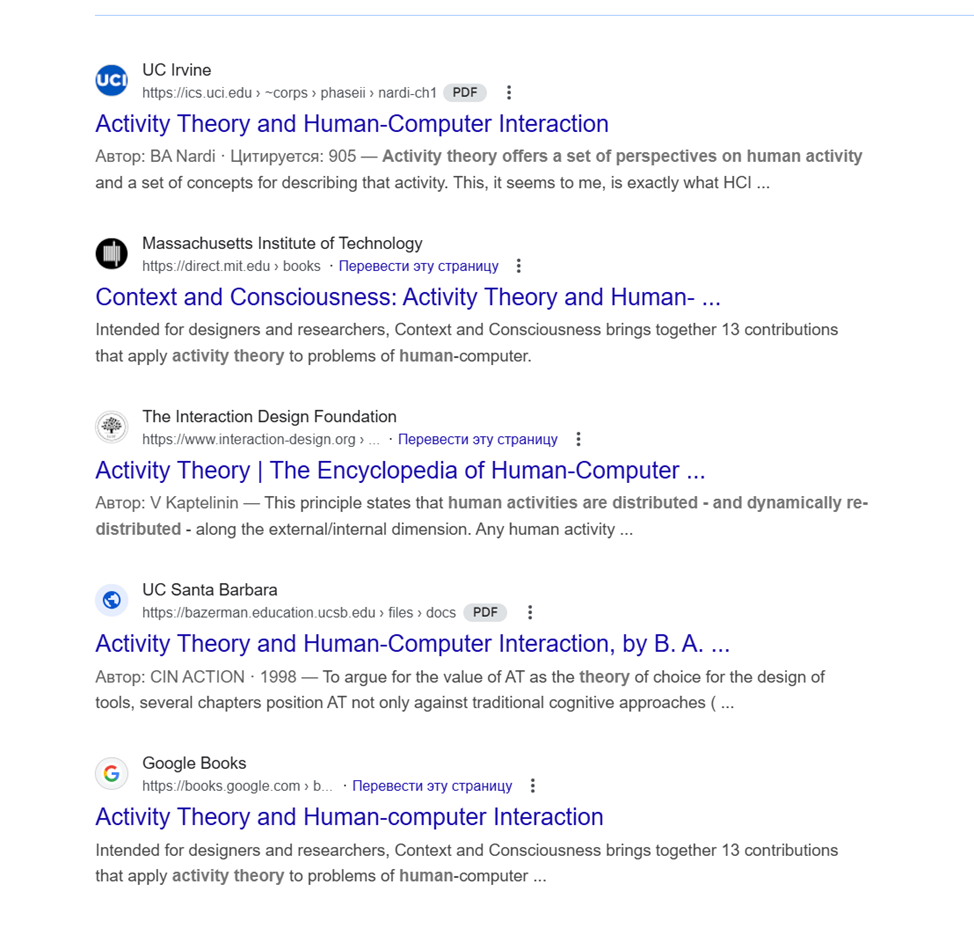

Добавить комментарий для YKMN Отменить ответ